2014
2014_01_01 Всех с Новым годом и Рождеством! И пусть в Новом году будет побольше радостного — по крайней, мере, весёлого. Чтобы мы не забывали ни себя, ни своей страны, ни нашей истории.
2014_01_06 Недавно читал всякую всячину — и диву даёшься, с какой скоростью все мы просто дичаем. Раньше в каждом издательстве был хоть какой-то редактор, плюс корректор, которые могли значительную часть фактических ошибок и простых опечаток выправить. Ныне это не так, конкуренция-с, экономим. Поэтому тиражируются такие ляпы, что диву даёшься.
Так, в переводе одного американского романа главные герои приезжают в Париж и ищут отель "Девилль." Переводчик, видимо, предположил, что это место, где живут, отель, мотель — и примерно так это и переведено. Он, видимо, как и все, закончил теперь не филфак МГУ, а четрырёхмесячные ускоренные курсы английского языка, поэтому ему не успели объяснить, что Hôtel de Villé по-французски это просто мэрия, остановиться там на ночь вряд ли удастся.
Только посмеялись над этим ляпом, в газете нашли новый: в подписях к фотографиям из статьи об убийстве Франца Фердинанда в Сараеве в 1914 г. утверждается, что он был архиепископ (!), а не эрцгерцог (написано Archbishop вместо Archduke, Toronto Star, 2014, 5 января.) Причина простая: вместо того, чтобы работать самому, журналист сегодня лезет в Гугел и находит там этот бред. (см. рис. из Гугла). Понятно, что Гугел сам ничего не создаёт, это следствия дикой безграмотности в Инете, поощряемой плохими словарями-спеллерами (например, в микрософтовском спеллере русского языка для своего же Ворда ляпов полно…) Таких же ляпов полно в Википедии: если ею можно хоть как-то с большой осторожностью пользоваться для естественных наук, то для гуманитарных это вовсе не так. Статьи просто написаны специально так, чтобы "мозги запудрить."
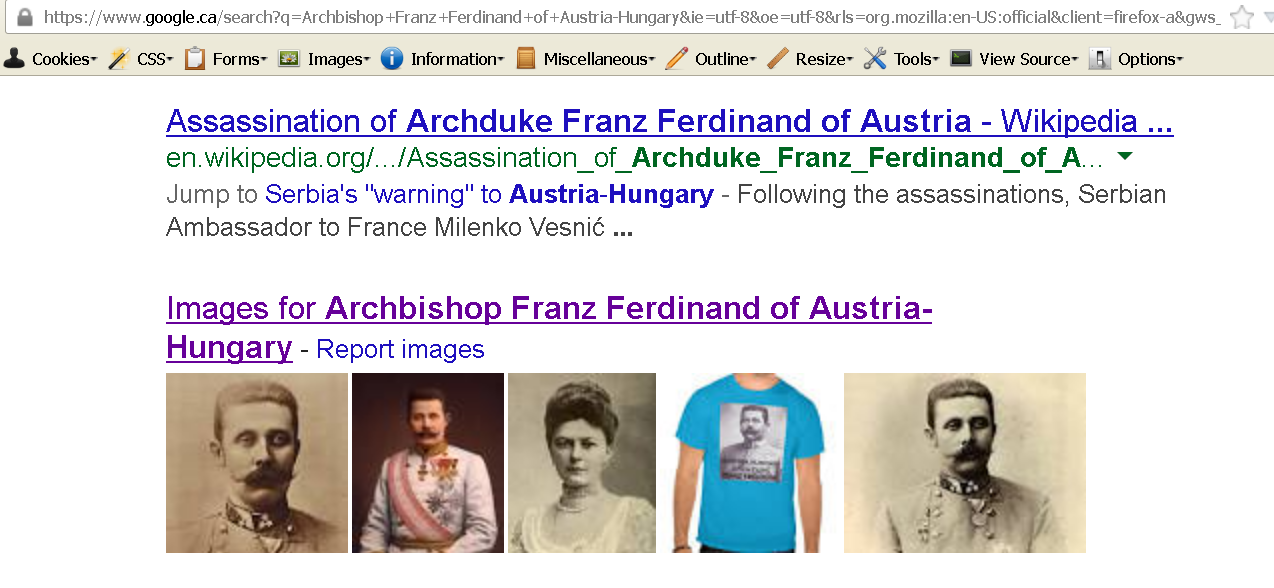
Рисунок 1.Эрцгерцога Франца-Фердинанда произвели в Гугеле в архиепископы!
В общем, это опять напоминает всё тот же старый советский анекдот: "Вань, слыхал, на съезде КПСС решили всем по вертолёту дать." — "А зачем?" — "Ну как же, вдруг в Челябинске мясо выкинут, вот из Москвы быстренько и слетаем…"
Теперь у каждого по иПОДу и прочему гад(жет)у, а читать-писать разучились.
2014_01_25 Опять читаю газету: колыбель антикоммунистической революции в соцстранах, Гданьский судостроительный завод, имел до этой революции более 20 тыс. рабочих; теперь же, в 2010-х он не в состоянии прокормить и 2 тыс. Саму верфь датчане собираются превратить в центр увеселений (типа Диснейленда), а иностранный владелец их (на деле украинский миллионер) не находит никак общего языка с правительством Польши).
Это совершенно соответствует тому, что рассказал мне один выходец из Латвии, А.: завод ВЭФ, выпускавший прекрасную технику и на котором я был несколько раз с моими группами, закрыт. А родичи А., фермеры, получают спецпремию за то, что они НЕ ОБРАБАТЫВАЮТ свою землю.
А тут и официальная статистика министерства, ведающего иммигрантами в Канаду подоспела: число приехавших из Венгрии резко возросло.
Все три страны — из тех, кого можно было бы назвать "сувенирными": суверенности много, но своё население они уже без помощи извне прокормить не могут.
Так и хочется задать вопрос: "А зачем же ботик утопили?!" Да, коммунизм был плох, но ведь демонтаж его разгромил не столько КГБ и компартии, сколько рабочее движение: Клинтон закрыл свои профсоюзы, за ним последовали и другие страны. Зато Индекс Джини в США растёт как на дрожжах. За что боролись, на то и напоролись?
2014_01_26 Обнаружил ещё одного великого русского писателя — А. Бестужева-Марлинского; к стыду своему, никогда о нём ничего не слышал, и заведомо не читал… У него действительно прекрасный стиль, великолепные стихи, блестящие метафоры, абсолютно злободневные афоризмы: "…прочие гости занимались умножением нуля, то есть переливали из пустого в порожнее.…" И ещё: "Люди ныне не потому презирают собратий, что себя высоко ценят, напротив, потому, что и к самим себе потеряли уважение. Мы достигли до точки замерзания в нравственности: не верим ни одной доблести, не дивимся никакому пороку.… "(Фрегат Надежда).
2014_02_12 Микрософт создал на нашу голову быстро, но крайне неэффективно систему записи букв нелатинских график (кириллица, иврит, греческий и пр.), которая при переходе к следующему поколению Word 97 & up породила дикую проблему: буквы (например, русские) заменяются "крякозябрами" из дополнительной части кодовой таблицы ("а с крышкой" и пр. — Ä или î: например, слово Íåâåøàðåòîâêå — так он изображает слово невешаретовка); иврит, который якобы они могли записать правильно справа налево, в окончательном варианте превратился в загадку: текст написан правильными буквами (ивритскими), но слова напечатаны СЛЕВА НАПРАВО!
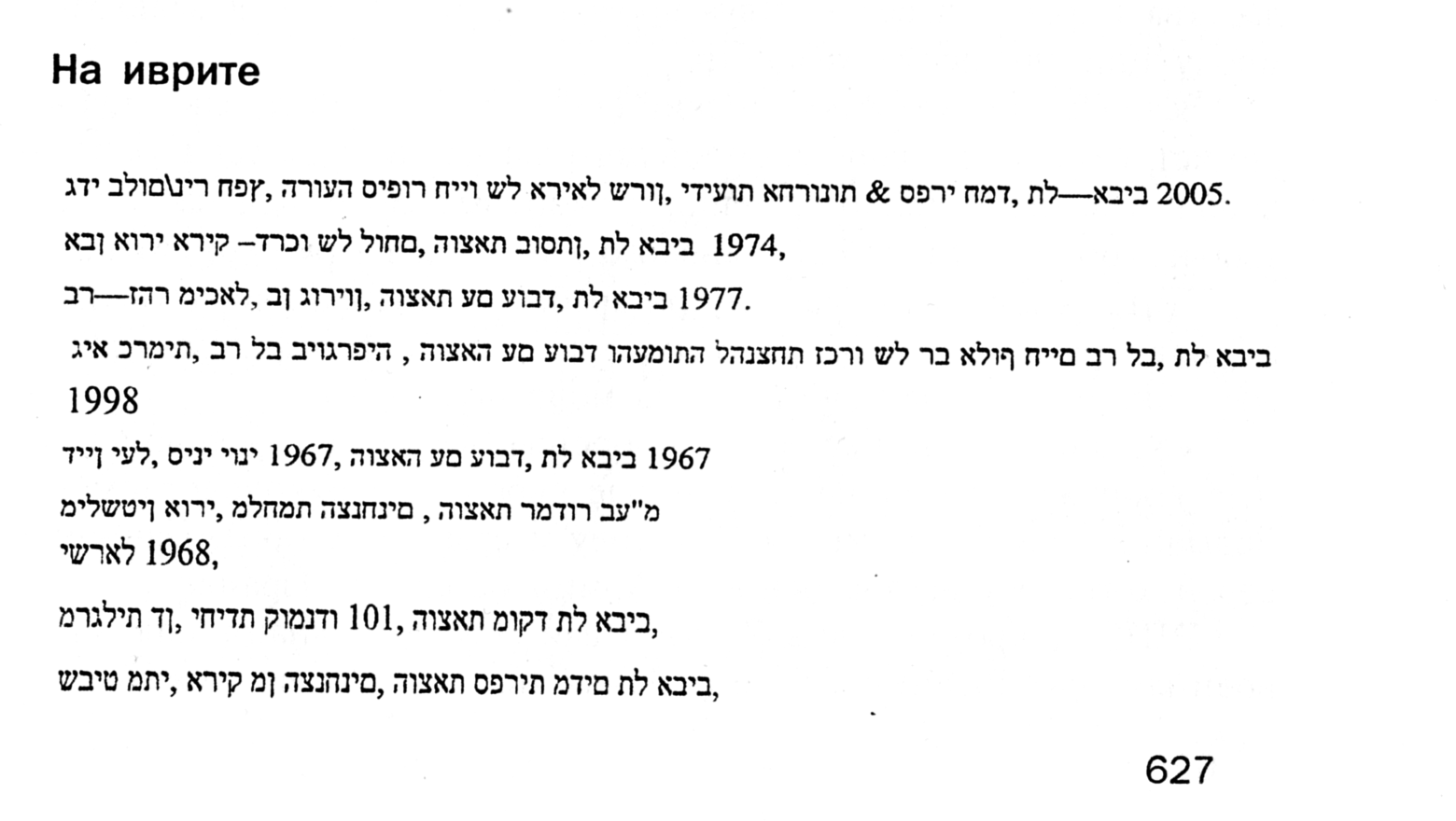
Рисунок 1.Ивритский текст слева направо С. 267 из библиографии к книге П. Люкимсона "Ариель Шарон" (М., ЭКСМО, 2008)
Можно, конечно, сказать: "Но зато ведь они и сами же добавили специальный макрос "Fix Broken Text" " (уже в версию Word 2000 года.)
Совершенно верно, только в версии 2007 он убран вовсе, ибо по мнению микрософтовцев, макрос не пользовался никаким спросом и поэтому его (так сказать "по заявкам трудящихся юзверей") убрали. Это неправда: в интернете любой неленивый легко найдёт обращения людей, пишущих на разных языках (сербско-хорватский, русский, болгарский, украинский, иврит…), ищущих этот макрос. И это понятно: появление ворда в 1990-х породило терабайты текстов на разных языках — и создавались они в этой исходной, наивной, а потому и неверной кодировке — и все теперь читаются с крякозябрами.
Ещё Word 1997 не признавал полностью Unicode, и я год доказывал это их сотрудникам; доказал — и что? Они даже не поблагодарили меня (не говоря о том, что они ОБЯЗАНЫ были просто либо вернуть мне деньги за оригинальную копию, либо хотя бы, выпустив следующие версии, прислать мне бесплатно её… Когда автомобиль Форда или Дженерал Моторз отзывают, дают либо новый, либо возвращают деньги.)
Когда мелкософт исправил частично СВОИ ошибки, эти "неправильные" файлы никуда не делись — и разно или поздно их пришлось читать в новых версиях Word, которые просто отказываются это делать! А Word 2003 на Форточки 8 уже просто не ставится (и, наоборот, Word 2013 не ставится на XP).
Я вынужден пользоваться этим макросом "Fix Broken Text" постоянно (ибо чего только юзвери не понастроили и не спасли на просторах Инета…)
По крайней мере для Word 2007 проверено, что этот макрос "Fix Broken Text" можно восстановить; для этого нужно использовать файл eefonts.dot1.
Он находится внутри зиппованного файла EEFonts.exe, который можно скачать здесь или ещё.
Его надо спасти куда-то на ваш хард-диск, раззиповать (НБ: не запустить, нажав 2 раза на файл, а именно раззиповать — например, используя 7-zip!!!) и выделить оттуда только файл EEFonts.msi.
Из этого файла нужно вытащить (через тот же 7-zip) файл eefonts.dot1.
Его нужно спасти временно куда-нибудь, переименовать его в eefonts.dot и окончательно спасти на директории C:\Documents and Settings\{ваше имя, USERNAME}\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP). После этого имя макроса "Fix Broken Text" появится опять в меню (если у вас "лента," то искать надо будет его в Tools, Инструментах)
Говорят, что в Word 2010 и 2013 + в Форточках 7 и выше это не проходит (за счёт запретов писать что-либо куда-либо, но можно пробовать другие варианты… Из-за этого я пока не стремлюсь избавиться от Word 2003, заменив его дорогой игрушкой типа модель 2016 …)
Удачи.
2014_04_14 И ещё одного: граф Владимир Соллогуб. Прочёл его прекрасные мемуары; он был в родстве со многими высокопоставленными людьми. Один из его родичей, Илларион Васильевич Васильчиков:
Я был уже юношей и находился у тетки своей Васильчиковой. В это время к ней приехал её родственник и соименник по мужу, Илларион Васильевич, впоследствии князь и председатель Государственного совета. Муж чести и правды, бойкий кавалерист, гусар, витязь битв с Наполеоном, он пользовался таким уважением, что был удостоен одним из высших в государстве званий. Вот как он к этому отнесся.
Матушка встретила его у М. А. Нарышкиной и поздравила с назначением.
- Вам-то хорошо,- отвечал он печально,- а мне-то каково. Всю ночь я не мог заснуть ни минуты. Боже мой! до чего мы дожили, что на такую должность лучше меня никого не нашли.
Причина: тогда ещё люди знали и понимали, что такое честь. Васильчиков — бравый генерал, действительно, и на своём портрете выглядит как гуляка-гусар. И зная самого себя, он не мог не понимать, что эта должность не для него. И, будучи человеком чести, он себе такого поста — ради карьеры — вовсе не желал. Не то что теперь. Современный политикан за то, чтобы лишний час удержаться на посту, готов душу заложить, не говоря уж о прочих материальных частях самого себя… Тогдашний "служащий" всё ещё понимал, что такое "невольник чести," что честь не причёска, что другой не бывает. А сегодня президент крупной страны врёт под присягой — хотя десятки видеокамер запечатлели его с сотрудницей в соответствующей позе; министр обороны другой крупной страны забывает у своей хахалюшки, да вдобавок ещё и по совместительству спящей с главой какой-то банды, лэптоп со всеми военными планами НАТО… Третий, тоже президент весьма немалой страны, приказывает послать танки и самолёты против своих же сограждан, вся вина которых, оказывается в том, что они хотят говорить не "вышня," а, не по-нашему, "вишня." В те, "дико-отсталые" временами, человек, совершивший такое, сохраняя свою честь (а, следовательно, и своей семьи!) — просто стрелялся. А сегодня оно, это существо, сообщает нам, что оно вовсе не хотело, что всё само так вышло, ну, с кем не бывает.
С ума сойти… Воистину, капитализм и социализм плавно перешли в сюрреализм.
И для них слово честь было не пустым местом. Соллогуб в другом месте рассказывает о Наталье Дмитриевне Кологривовой, у которой бывал весь Петербург. Однако когда однажды граф Чернышев, тогдашний военный министр, не будучи знакомым с Кологривовой, приехал к ней с визитом и без доклада вошел в гостиную, переполненную посетителями, Наталья Дмитриевна не ответила на его поклон, позвонила и, грозно глянув на вошедшего слугу, громко проговорила своим басистым голосом: "Спроси швейцара, с каких пор он пускает ко мне лакеев?" Сановник едва унес ноги, а на другой день весь именитый Петербург перебывал у Натальи Дмитриевны." [Соллогуб 2011, с. 98] (Причина такого отношения к столь высокопоставленному чиновнику: Генерал-адъютант, министр граф А. И. Чернышев, пользуясь ссылкой декабриста З. Г. Чернышева, законного наследника майората, пытался присвоить майорат себе — за что и был единодушно осуждён светом. (об этом же писали и другие — напр. С. С. Уваров (см.: Лунин М. С. Письма из Сибири. М, 1987. С. 295). А в наше время слямзить что-то плохо лежащее почитается просто-таки доблестью; а уж впарить простецу негодный товар (типа Windows 8) — это просто подвиг, достойный немедленной похвалы, места в talk-show и зависти всех окружающих.
И. В. Васильчиков рассказал кое-что и о доносе на декабристов:
Однажды,- говорил Илларион Васильевич,- ко мне явился человек, не объявивший своего имени. Он передал мне шепотом о существовании заговора против спокойствия государства и жизни государя. Я не люблю анонимных доносов и принял посетителя довольно сухо, тем не менее сообщение было необыкновенной важности, и я потребовал доказательств. Тогда незнакомый подал мне список более или менее известным лицам. Все эти лица должны были съехаться осенью из разных концов России в Москву для совещания по своему преступному замыслу. День съезда был назначен. Об этом случае я государю не доложил. Но так как московский генерал-губернатор князь Димитрий Владимирович Голицын, женатый на моей сестре, был мне и по душе близким человеком, в котором я был вполне уверен, я препроводил к нему секретно полученный мною список с просьбой проверить показания незнакомца.
Через несколько времени Димитрий Владимирович отвечал мне, что все лица, в списке поименованные, действительно съехались в Москву к определенному дню. Таким образом, обвинение было верно, и я поспешил довести об этом до сведения его величества, но государь знал уже о заговоре и не желал приступать к мерам строгости. Когда гвардия была направлена в литовские губернии, я командовал оставшимися в Петербурге войсками и имел счастье постоянно видеть государя. Однажды он ко мне заехал и посадил в свои сани. Случай был удобный. Я осмелился выразить, что зло надо пресечь в основании, чтоб не дать ему развиться и довести до важных и прискорбных последствий. Государь выслушал молча и потом промолвил:
- Если бы я был Васильчиков, я бы говорил точно так же, но, по совести, я должен сказать, что если все эти мысли так распространились, то я первый тому причиной." [Соллогуб 2011, с. 23] (В другом издании в примечании сказано, что этот рассказ Васильчикова был записан в рабочей тетради Соллогуба, РО ГБЛ. Венев. 65. 12. Л. 4 об.-6, фр. Кроме того, сказано, что "Соллогуб не совсем точно излагает события. Речь идет о московском съезде членов "Союза благоденствия", собравшихся в январе (не осенью) 1821 г. с целью внести изменения в устав общества и обсудить ряд вопросов, касающихся его устройства и программы действий. (См.: Волконский. С. 411-412.) Доносительная записка секретного агента М. К. Грибовского была представлена Александру I через И. В. Васильчикова весной 1821 г.")
Если бы мы хоть как-то хотели читать (и понимать!) историю как книгу… Соллогуб рассказывает о том, как его упросили похлопотать об одном невинно пострадавшем молодом человеке; он решил действовать через императрицу. Император отказывал ей несколько раз, "наконец согласился он и, точно pro memoria (в качестве предупреждения), проговорил: "Хорошо, но за последствия не отвечаю." Молодому человеку был выдан заграничный паспорт, и он отправился в Лондон. Звали его Александр Иванович Герцен." [Соллогуб 2011, с. 105] И ведь это не единственный пример политической близорукости: французский граф Андро де Ланжерон вместе с Лафайетом воевал за создание США, потом, вернувшись домой, участвовал в созыве Генеральных Штатов (des Etats Généraux), а когда их деятельность привела к революции. сбежал от террора в Россию, где и стал новороссийским губернатором, заменив в Одессе другого эмигранта, герцога Ришелье. [Соллогуб 2011, с. 114] Может быть, не усердствуй они в развале чужих стран, глядишь, и бежать бы не пришлось из своей?!
Он, близко знавший русских гениев, с печалью писал: "(Гоголь) страдал долго, страдал душевно, от своей неловкости, от своего мнимого безобразия, от своей застенчивости, от безнадежной любви, от своего бессилия перед ожиданиями русской грамотной публики, избравшей его своим кумиром. Он углублялся в самого себя, искал в религии спокойствия и не всегда находил; он изнемогал под силой своего призвания, принявшего в его глазах размеры громадные, томился тем, что не причастен к радостям, всем доступным, и, изнывая между болезненным смирением и болезненной, не свойственной ему по природе гордостью, умер от борьбы внутренней так, как Пушкин умер от борьбы внешней. Оба шли разными путями, но оба пришли к одной цели, конечному душевному сокрушению и к преждевременной смерти. Пушкин не выдержал своего мнимого унижения, Гоголь не выдержал своего настоящего величия. Пушкин не устоял против своих врагов, Гоголь не устоял против своих поклонников. Оба не были подготовлены современным им общественным духовным развитием к твердой стойкости перед жизненными искушениями. Оба не нашли вокруг себя настоящей точки опоры, общего трезвого взгляда на отношение искусства к жизни и жизни к истине. Настоящим художникам нет еще места, нет еще обширной сферы в русской жизни. И Пушкин, и Гоголь, и Лермонтов, и Глинка, и Брюллов были жертвами этой горькой истины. Там, где жизнь еще ищет своих требований, там искусству неловко, там художник становится мучеником других и самого себя. [Соллогуб 2011, с. 148]
Совет Гоголя Соллогубу, как писать — даже когда не хочется, не пишется: "А вы все-таки пишите,- отвечал он мне тем особенным своим добродушно-насмешливым тоном, который он принимал часто, говоря с близкими ему людьми,- все-таки пишите; возьмите хорошенькое перышко, хорошенько его очините, положите перед собою лист бумаги и начните таким образом: "Мне сегодня что-то не пишется". Напишите это много раз сряду, и вдруг вам придет хорошая мысль в голову! за ней другая, третья, ведь иначе никто не пишет, и люди, обуреваемые постоянным вдохновением, редки, Владимир Александрович!" [Соллогуб 2011, с. 164]
И как же оправдались предсказания Соллогуба после успехов в освобождении православных от турок: "Народы, как люди, не прощают оказанных им благодеяний, и рано или поздно мы встретим в болгарах, спасенных нами, черную неблагодарность." [Соллогуб 2011, с. 215] И не то ли было во время страшной катастрофы Петра во время Прутского похода, когда Пётр вместе с Екатериной были близки к смерти или по крайней мере, унизительному пленению — именно благодаря измене тех самых освобождённых нами народов?! А ведь предупреждали об этом потом не раз; объясняя, что он не берётся предсказать будущее славянских балканских государств, Достоевский (Дневник Писателя, 1877, сентябрь-ноябрь) с горечью пишет:
"…не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными! И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник славян! Я, напротив, очень люблю славян, но я и защищаться не буду, потому что знаю, что всё точно так именно сбудется, как я говорю, и не по низкому, неблагодарному, будто бы, характеру славян, совсем нет, - у них характер в этом смысле как у всех, - а именно потому, что такие вещи на свете иначе и происходить не могут. Распространяться не буду, но знаю, что нам отнюдь не надо требовать с славян благодарности, к этому нам надо приготовиться вперед. Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают. Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия, отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, "имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени". Долго, о, долго еще они не в состоянии будут признать бескорыстия России и великого, святого, неслыханного в мире поднятия ею знамени величайшей идеи, из тех идей, которыми жив человек и без которых человечество, если эти идеи перестанут жить в нем, - коченеет, калечится и умирает в язвах и в бессилии. Нынешнюю, например, всенародную русскую войну, всего русского народа, с царем во главе, подъятую против извергов за освобождение несчастных народностей, - эту войну поняли ли наконец славяне теперь, как вы думаете? Но о теперешнем моменте я говорить не стану, к тому же мы еще нужны славянам, мы их освобождаем, но потом, когда освободим и они кое-как устроятся, - признают они эту войну за великий подвиг, предпринятый для освобождения их, решите-ка это? Да ни за что на свете не признают! Напротив, выставят как политическую, а потом и научную истину, что не будь во все эти сто лет освободительницы-России, так они бы давным-давно сами сумели освободиться от турок, своею доблестью или помощию Европы, которая, опять-таки не будь на свете России, не только бы не имела ничего против их освобождения, но и сама освободила бы их. Это хитрое учение наверно существует у них уже и теперь, а впоследствии оно неминуемо разовьется у них в научную и политическую аксиому. Мало того, даже о турках станут говорить с большим уважением, чем об России. Может быть, целое столетие, или еще более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее. О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые поймут, что значила, значит и будет значить Россия для них всегда. Они поймут всё величие и всю святость дела России и великой идеи, знамя которой поставит она в человечестве. Но люди эти, особенно вначале, явятся в таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже политическому гонению. Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия - страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации. У них, конечно, явятся, с самого начала, конституционное управление, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет это чрезвычайно утешать и восхищать. Они будут в упоении, читая о себе в парижских и в лондонских газетах телеграммы, извещающие весь мир, что после долгой парламентской бури пало наконец министерство в Болгарии и составилось новое из либерального большинства и что какой-нибудь ихний Иван Чифтлик согласился наконец принять портфель президента совета министров. России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своем славянском значении и в своем особом славянском призвании в среде человечества. Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит - Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и единство. Будут даже и такие минуты, когда они будут в состоянии почти уже сознательно согласиться, что не будь России, великого восточного центра и великой влекущей силы, то единство их мигом бы развалилось, рассеялось в клочки и даже так, что самая национальность их исчезла бы в европейском океане, как исчезают несколько отдельных капель воды в море. России надолго достанется тоска и забота мирить их, вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч при случае. Разумеется, сейчас же представляется вопрос: в чем же тут выгода России, из-за чего Россия билась за них сто лет, жертвовала кровью своею, силами, деньгами? Неужто из-за того, чтоб пожать столько маленькой, смешной ненависти и неблагодарности? О, конечно, Россия всё же всегда будет сознавать, что центр славянского единства - это она, что если живут славяне свободною национальною жизнию, то потому, что этого захотела и хочет она, что совершила и создала всё она. Но какую же выгоду доставит России это сознание, кроме трудов, досад и вечной заботы?"
И ведь написано это и опубликовано ДО ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ за их освобождение, когда Россия могла совершенно свободно выйти на Босфор, захватить Константинополь, восстановить Вселенский Патриархат, развалить Османскую империю — в первую очередь, освободить Иерусалим. Вместо этого России был навязан нелепый мир, в рамкам которого получалось, что Россия чуть ли не проигравшая страна в войне. В общем, недаром говорят, что ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным…
2014_04_15 Судя по всему, Провидение решило, что подснежники — особенно после Вербного воскресенья — должны быть под снегом; и после 20-градусной жары вчера, сегодня все удовольствия сразу: ночью было полное лунное затмение, утром температура минусовая, выпал снег:

С наступающим праздником!
2014_04_15 Продолжаем читать Соллогуба. "Вообще, наши писатели двадцатых годов большею частью держали себя слишком надменно, как священнослужители или сановники. И сам Пушкин не был чужд этой слабости: не смешивался с презренною толпой, давая ей чувствовать, что он личность исключительная, сосуд вдохновения небесного." [Соллогуб 2011, с. 9]
Жизнь сильно и быстро менялась: "В прежние годы постоянная оседлость образовала потребность. У каждого семейства был свой приход, свой неизменный круг родных, друзей и знакомых, свои предания, свой обиход, своя заветная мебель, свои нажитые привычки. Железные дороги всё это изменили. Теперь никому дома уже не сидится. Жизнь не привинчивается уже более к почве, а шмыгает, как угорелая, из угла в угол. Семейственность раздробляется и кочует по постоялым дворам. Может быть, это имеет свою хорошую сторону относительно общего рода просвещения, но мы, старожилы, не можем не пожалеть об условиях прежнего тесного семейного быта." [Соллогуб 2011, с. 20]
Воспоминания очевидцев часто воспоминают нечто, что никак не сочеталось с марленом, которым пичкали нас: "Александр Павлович Башуцкий рассказывал о подобном случае, приключившемся с ним. По званию своему камер-пажа он в дни своей молодости часто дежурил в Зимнем дворце. Однажды он находился с товарищами в огромной Георгиевской зале. Молодежь расходилась, начала прыгать и дурачиться. Башуцкий забылся до того, что вбежал на бархатный амвон под балдахином и сел на императорский трон, на котором стал кривляться и отдавать приказания. Вдруг он почувствовал, что кто-то берет его за ухо и сводит с ступеней престола. Башуцкий обмер. Его выпроваживал сам государь, молча и грозно глядевший. Но должно быть, что обезображенное испугом лицо молодого человека его обезоружило. Когда все пришло в должный порядок, император улыбнулся и промолвил: "Поверь мне! Совсем не так весело сидеть тут, как ты думаешь." [Соллогуб 2011, с. 22] Такой портрет и такое поведение императора совсем не соответствовало тому, что пытались продавать — и с успехом! — швондеры после революции.
Один из таких мифов был и жестокость помещиков по отношению к своим крестьянам: "Много есть теперь людей, воображающих, что во времена крепостного права, когда помещики встречались с своими крестьянами, то они тотчас начинали сечь крестьян и крестьяне издыхали в мучениях. Конечно, от меня далека мысль написать элегию об утрате крепостного права - изображать о нём идиллии смешно и ложно, - но зачем же не сказать правды, зачем не вывести из виденного, слышанного, испытанного, что, помимо ужасающих злоупотреблений, бывший порядок вещей поддерживал между помещиками и крестьянами близкую, так сказать, родственную связь." [Соллогуб 2011, с. 61]
И его рассказы хорошо коррелируют с другими: отец Соллогуба решил построить больницу в своём селе, построено было здание, закуплены лекарства, приглашён доктор, больницу освятили — и, наконец, первый больной. "Первый больной решительно не понимал, что хотят с ним делать, стал чего-то страшиться и тосковать. Когда мой отец посетил его, он вскочил с кровати на пол и повалился отцу в ноги. "Батюшка, ваше сиятельство, - завопил он, - будьте отцом родным, прикажите за себя вечно бога молить! Позвольте меня домой отправить, человек я женатый, хозяйка моя горюет, ребятишки мои плачут. А я на свое место пришлю меньшого брата, парень он еще холостой, здоровый!" [Соллогуб 2011, с. 66] Ну точно как у Энгельгардта — посадки, дороги — всё было мужику непонятно, а потому и не нужно…
(В пару к Энгельгардту и рассказ об Аракчееве: тот издал приказ, "У нас новый приказ отдан, что каждый усердный чиновник должен заниматься служебными обязанностями по крайней мере двадцать четыре часа в день, а кто может - то и более!" [Соллогуб 2011, с. 75]) — так Соллогуб передаёт слова очередного родственника, служившего при Аракчееве)
Понятно, что и размах у бар был барский. Родной дядя его отца, известный остряк, Александр Львович Нарышкин, устроил грандиозный банкет; государь поинтересовался, во что это обошлось: "Ваше величество, в тридцать шесть тысяч рублей," - ответил Нарышкин. "Неужели не более? - с удивлением отозвался государь." — "Ваше величество,- заметил Нарышкин,- я заплатил только тридцать шесть тысяч рублей за гербовую бумагу подписанных мною векселей!" История имела продолжение: "…несколько времени спустя император прислал Нарышкину альбом или, скорее, книгу, в которую вплетены были сто тысяч рублей ассигнациями. Нарышкин, всегда славившийся своим остроумием и находчивостью, поручил передать императору свою глубочайшую признательность и присовокупил: "Что сочинение очень интересное и желательно бы получить продолжение." Говорят, государь и вторично прислал такую же книгу с вплетенными в нее ста тысячами, но приказал прибавить, что "издание окончено." " [Соллогуб 2011, с. 72]
А ведь прижизненные портреты Пушкина совсем не похожи друг на друга (см. у Соллогуба, [Соллогуб 2011, цветные вкладки]
Мнение Соллогуба о декабристах: "могу сказать только одно, что, по мнению людей, истинно просвещенных и искренно преданных своей родине, как в то время, так и позже, это восстание затормозило на десятки лет развитие России, несмотря на полный благородства и самоотвержения характер заговорщиков. Оно вселило в сердце императора Николая I навсегда чувство недоверчивости к русскому дворянству и потому наводнило Россию тою мелюзгою фонов и бергов, которая принесла родине столько неизгладимого на долгое время вреда." [Соллогуб 2011, с. 81]
И тогда были проблемы с педагогикой:
"Собственным своим опытом я убедился, что первоначальное знакомство с классиками развивает понятие о прекрасном и, следовательно, внушает требовательность в воззрениях критики. Классическое образование и не должно, как мне кажется, иметь другой цели. Я впоследствии вполне сознал, что ни ребенка, ни молодого, ни взрослого человека не обучают: они сами обучаются, если имеют способности, охоту и терпение. К обучению следует подготовить только почву. Наука дается тем, которые понимают оттенки, но наука, основанная на грубости, на отсутствии критического чувства, приводит к полузнанию и к полупросвещению, то есть к началам, дорого обходящимся и отдельным личностям, и всему обществу. При последнем моем посещении Тифлиса, будучи уже стариком, я был вынужден сказать несколько слов ученикам тамошней гимназии. Я изложил следующую мысль. Классицизм обучает прекрасному, реализм - полезному. Но все прекрасное полезно, и все полезное прекрасно.
Мне кажется, что я не ошибался; но я могу теперь добавить, что если начинать с полезного, то время усвоения прекрасного пропадет, так как оно всего удобнее для молодого возраста, когда прививаются не столько удобо-проходящие познания, сколько уже навсегда остающиеся инстинкты и убеждения. Одно прекрасное доведёт только до пустоты; одно полезное доведёт только до грубости. Сочетание прекрасного и полезного - вот, как мне кажется, цель воспитания, а впрочем, всё это будь сказано мимоходом."
(Далее он вспоминает свои встречи с двумя совершенными стариками, всё ещё живо интересующимися искусством, литературой: "И Абнер, и Жоад остались верными самим себе; но кто же создал им это искусственное счастье, эту искусственную молодость, которая реализму, конечно, не была бы по плечу? Они нашли их в своем классическом образовании, которое вынесло их сердце через всю жизнь, иногда и незавидную, на крыльях фантазии и отрешения от житейских условий. "Это глупо",- скажут нигилисты. "Это свято",- скажу я." [Соллогуб 1988, с. 561]
Описав меценатов и филантропов из высшей аристократии, собиравших библиотеки и создававших свои музеи, он справедливо задаётся вопросом: а что такое аристократия? И приходит к нелестному для всех — и демократов, и коммунистов, и прочих радетелей за права человека: есть люди хорошие, и есть люди плохие:
"Нет ничего нелепее и лживее, как убеждение о родовом чванстве русской аристократии. Лучшим тому доказательством служит то, что герцогом Монморанси, то есть представителем древнейшего у нас дворянского рода, мог считаться чувствами высоко благородный, но жизнью глубоко смиренный князь В. Ф. Одоевский, - между тем никто, и в особенности он сам, никогда не подумал об аристократическом значении его имени иначе как в шутку. Об Одоевском я надеюсь впоследствии поговорить подробно; скажу только, что тем не менее он был истинный аристократ, потому что жил только для науки, для искусства, для пользы и для друзей, то есть для всех порядочных и интеллигентных людей, с которыми встречался. Простота и добродушие Одоевского были бесконечны. Когда он умер, Соболевский сказал: "Сорок лет сряду я старался вывести этого человека из терпения, и ни разу мне не удалось..." Таков был глава русского родового аристократизма. Если мы обратимся к истории, мы найдем, что местничество относилось к месту, то есть к чину, к старшинству, а не к племенным преданиям. В администрации мы находим бесконечный список людей, достигших до государственных должностей из всех сословий безразлично.
Семинарист Сперанский был единственным гражданским генерал-губернатором. Ему же поручена была кодификация свода законов, и император Николай I публично возложил на него Андреевскую ленту в государственном совете.
Русское общество можно упрекнуть в чиновнизме, в милитаризме и во многом другом, но в аристократизме... Смешно даже подумать! Уж не назвать ли этим именем некоторую надменность небольшого кружка, играющего в comme il faut и неприступность, хотя он состоит из самых разнородных элементов, смешивая давнишние имена со вчерашними и даже с нынешними?
Аристократия как принцип может играть важную роль в государственной жизни, что мы видим в Англии, но, конечно, не как игрушка, требующая от России того, чего в ней нет. Однажды мне пришла на язык довольно забавная шутка. "У нас,- сказал я,- князь Б. выдумал аристократию, князь Долгоруков её описал, а теща моя поверила". Определение и теперь, мне кажется, верно. Но что всякое государство должно иметь свой высший общественный слой, основанный на заслугах, талантах и достатке,- это не подлежит ни малейшему сомнению. Отрицание такой истины, или нигилизм, образует тут государственную измену, основанную на бессмыслице. Все отличия должны слиться в одну общую касту или, правильнее, в одно общее чувство взаимной солидарности.
Английский лорд, кроме своих, никого не признает. Французский маркиз, придавленный и разоренный, не знается с людьми ничтожными - les hommes de peu. У нас ничего подобного нет, а между тем и у нас проявляется доморощенная и заимствованная у иностранцев вражда против какой-то не чиновной, всякому доступной, а замкнутой аристократии, то есть против признака. Когда у Россини спросили, любит ли он немецкую музыку, он ответил, что он знает только два рода музыки - хорошую и дурную. Можно сказать, что у нас существуют тоже только два рода людей - образованные и необразованные.
От этого я, по крайней мере, никогда не видал, чтобы выборные по дарованию и таланту лица отталкивались от выборных по богатству и рождению. Напротив того, я всегда видал, что вторые заискивали в первых и гордились их знакомством. На моем веку Жуковский, Крылов, Карамзин, Пушкин, Гоголь, Лермонтов - становились кумиром общественной высшей среды, как только они оценивались по достоинству." [Соллогуб 1988, с. 573]
(Ю: то есть, как и следовало ожидать: самые худородные — самые спесивые — ср. А. С. Пушкин о "мещанах").
О русской психологии: "Грановский говорил, что в русской голове нет места, куда бы могло уложиться чувство меры. Теперь, когда мыслям дана свобода и страсти разгорелись, такое свойство русской натуры стало еще ощутительнее. Для нее нет середины между крайностями, то есть истины. Чрезмерный восторг сталкивается с чрезмерным негодованием." [Соллогуб 1988, с. 574]
Его мнение о таких "жертвах царизма" как Пушкин, Лермонтов и пр.: "Тут уже совершенная неправда. … И Пушкин, и Гоголь, и Лермонтов, и Глинка, и Брюллов играли в свою эпоху значительную роль, и если они не сделали того, что могли, то винить следует не общество, всегда им сочувствовавшее, а их самих, потому что они тоже были русские, как все прочие, и что в их голове тоже не вмещалось чувство меры. … Впрочем, я думаю, что каждый человек делает только то, на что призван и насколько его хватит; что ничего другого не следует от него требовать, во-первых, чтобы не разочароваться напрасно, во-вторых, чтобы не переходить от чрезмерной снисходительности к чрезмерной взыскательности." [Соллогуб 1988, с. 574]
Порицая М. Глинку за то, что тот взялся за написание оперы сразу, безо всякого опыта в малых формах (типа сонат или концертов), он опять-таки объясняет это психологией русских:
"Но он (речь идёт о Мейербере) обладал тем огромным достоинством, которого у Глинки не было, — то есть терпением. Надо еще упомянуть об одном странном свойстве русского характера. У иноземцев мы можем проследить, как возникали таланты, как они вырабатывались усвоением критической к себе строгости, как они росли, крепли и доходили до все более и более замечательных произведений. У нас же, за редкими исключениями, русское дарование высказывается обыкновенно разом с первого шага и потом или ослабевает, или остается на одном уровне. Причина тому объясняется, во-первых, тем, что в русском человеке более заносчивости, чем выдержки, во-вторых, тем, что карьера художника у нас, собственно, до сего времени еще не карьера, а так себе - случайность, чуть ли не что-то лишнее в государственном строе и потому не отыскивающее себе прочного положения.
Выдуманный Петром Великим чин имел целью сгруппировать около правительственного средоточия всю деятельность интеллигентных и просто грамотных людей. Кто не служил, тот был пария, недоросль, сдаточный или подлежащий телесному наказанию. Никто не имел права быть самим собой, и каждый вынуждался носить особую кличку, особый мундир, особый знак подчинения административному началу. Для поэта, писателя, музыканта, актера, для люда нечиновного - места в обществе никакого не указано. От этого Державин, Жуковский, Дмитриев, Грибоедов, Гнедич, Крылов были чиновниками.
Пушкин был камер-юнкер. Лермонтов был офицер. Даже Глинка и Гоголь имели чины. Но как самостоятельные деятели в области искусства они не пользовались никаким официальным почётом, а предоставлялись только мало определительному почёту общественному. Но и почёт общественный в России не тот, что у иностранцев: он ограничивается сочувствием только людей действительно образованных. Нет в Англии крестьянина, который бы не гордился своим Шекспиром. Русский мужик никогда и не слыхивал про Пушкина, Гоголя и Глинку. Затем в самой среде своей русский художник не находит ни твердо сложившихся убеждений, ни художественной признанной святыни. Захваленный одними, опозоренный другими, то не зная, куда укрыться от похвал, то не зная, куда убежать от оскорблений, направленных на него из собственного его лагеря, русский художник, как только художник, — до сего времени еще не что иное, как общественный бобыль. Сверху он не получает права гражданства, снизу его существование признается еще менее, в своем кругу он мается по произволу неразвитой и большею частью пристрастной критики. Если ему и отдадут справедливость, то когда уж его давно на свете не будет, да и то еще, пожалуй, потревожат его прах, что мы тоже видели. Глинка положительно погиб преждевременно от уязвленного самолюбия, не от среды образованной, которая его воспитала, приютила и понимала, а от среды официальной, от недостатка популярности и её выгод и от неимения удовлетворяющего почета даже среди мира художников." [Соллогуб 1988, с. 579]
И далее о Глинке: "Глинка был громаден в тесных рамках, но что в рамах широких он оказался неудовлетворительным и что в этом виновата была не отсутствующая гениальность, а эпоха, в которой он жил, так как она не дала ему ни должного воспитания, ни твердого руководства, ни нравственной и материальной поддержки, иначе он сделался бы достоянием не одной России, а всего человечества." [Соллогуб 1988, с. 612]
Не отсюда ли наша интеллигенция, обязательно сначала ругающая всё без совести, а потом хвалящая без меры? Далее его рассуждения о судьбах русской интеллигенции и о "завистливой справедливости": русская интеллигенция и русской по религии и духу быть перестала, и от завистливой справедливости не избавилась:
Через полтора века после Петра граф В. Соллогуб (понятно, имея в виду своих современников-нигилистов), дал уничтожающую характеристику интеллигенции на фоне духовной истории России:
История русского искусства делится на две эпохи: от царя Алексея Михайловича до императрицы Елисаветы Петровны, от императрицы Елисаветы до нашего времени. В первой эпохе мы видим действительных скоморохов и потешный приказ, во второй мы видим основание Академии художеств, русской Академии словесности и начало русского театра, порученного кадетскому корпусу при понятном в то время предпочтении иностранным труппам. На этом мы и остановились. Академия художеств принесла свои плоды, Академия словесности утратила свое значение и независимость; театр остался монополиею придворного ведомства.
Между тем русский народ стал народом. Прежде, благодаря крепостному праву, он был только большое стадо, разделенное по племенам и загонам. Теперь, как пахнуло на него воздухом свободы, не удерживаемой еще достаточно сильными узами просвещения и воспитания, всем открылись карьеры, даже литературная и музыкальная, хотя народная масса в них потребности еще не видит. В них, однако, уже преобладают сильные приманки - заслужить известность, занять собой, потешить свое самолюбие, играть видную роль и, наконец, добиться средств к существованию. Такие стремления весьма понятны и даже желательны. Но они определились вне всяких условий, требований и пределов. Различие между родами литературы серьезным и легким ничем не очерчено. Сама литература не подлежит ни защите общественного мнения и отечественного самолюбия, ни покровительству официальных учреждений. По русскому свойству бояться только квартального - дело дошло до анархии, никаких законов и преданий не признающей и смешивающей Баха с Оффенбахом и Пушкина с Тряпичкиным.
Явились самопризванные судьи, фантастические теории, ересь всеотрицания. Установилась та оппозиция против кого-то и чего-то без всякого сознания против кого и чего. Слова приняты за понятия. Творческая сила природы заменила бога, братско-взаимная любовь людей заменила христианство, право на труд заменило артель, распределение земельных участков заменило душевой надел. То же самое, что нам присуще, переиначено на другие слова, как будто сущность дела от того изменилась. Наконец, что всего непонятнее, все наши внутренние неурядицы, все наши увлечения, недобросовестные поступки, наша неуживчивость, грубость - стали более или менее, открыто приписывать вине правительства, как будто правительство не скорбит более всех о них и не старается посильно постановить им преграду. Даже и понятия о правительстве и администрации у нас перемешались - и никому не пришло в голову выяснить, что правительство - высшая правящая сила, а что в администрации участвуем мы сами и сплошь да рядом выказываем свое собственное бессилие. Русская натура отличается жаждой неповиновения, ослушания, хотя бы самого безрассудного, даже против собственных законов и интересов,- так, просто, нраву не препятствуй,- а между тем сколько у нас было жертв запальчивости, уныния и бесприютства. Многие попали даже в Сибирь, не понимая, как это случилось и чего, собственно, они хотели. Тут произошли скорбные драмы, печальные разочарования, поздние раскаяния и ожесточения.
Денег нет, почета нет, таланта нет, образования нет, будущности нет, ничего нет, кроме русской жажды самоуправства и самовластия,- как же совместить эти понятия с рабством перед преданиями англичан, с поклонением народной славе французов, с усидчивым трудолюбием немцев? Что же тут ожидать, кроме горя и ожесточения? Встречаются, впрочем, люди с талантом и образованием, хотя недостаточно приготовленные к борьбе с жизнью, по недостатку твердо установившейся внутренней духовной почвы, и которые тоже не находят в обстановке, их окружающей, ни желаемого богатства, ни завидного почета, ни определенной по их достоинству будущности. Тут беспочвенность уже наружная, материальная, от причин исторических и этнографических происходящая. Бывают, наконец, и гении - и таков был Глинка,- которые, не находя ни в себе, ни вокруг себя достаточно поддержки, изнемогают и останавливаются на полдороге, утомленные, скорбные, вдвойне беспочвенные и проклинающие и свою судьбу, и свое бессилие. Не в таком ли душевном настроении находился Глинка, когда, оставляя Петербург, он вышел у заставы из повозки и плюнул на землю, его тогда в настоящем его значении еще не признавшую? Не то ли самое прочувствовал и Пушкин? И он не мог пожаловаться на равнодушие образованного общества, и он не мог ужиться в тесных рамках своего общественного положения. Родись Глинка не в России - имя его гремело бы в потомстве. Родись он и в России, но веком прежде,- он был бы часовой мастер, веком позже - он мог бы занять подобающее ему место. Но он родился нечаянно искупительною жертвою переходного времени от мрака к свету. Он был во главе целой касты недовольных и обиженных не равнодушием отборных личностей, а историческою неумолимостью переживаемой эпохи.
Не знаю, ошибаюсь ли я, но мне кажется, что многие, не имеющие ещё у нас определительного положения в свете, придумывают себе положение искусственное, самодельное. Лишенные возможности по недостатку гениальности пробить себе дорогу в неизменных пределах красоты и правды, тысячелетиями определенных пред вечным образцом природы, и не имея прав гражданства в среде более скромной, по недостатку этой среды, а между тем преследуемые честолюбием и нуждою,- они, так сказать, принуждаются к некоторой уродливости, то по эксцентричности понятий в области изящного, то по заблуждению относительно начал социальных и политических. Они - порождение болезненное, случайное, с общею жизнью не связанное. Не виноваты ни они сами, ни окружающие их условия; виновато время, в котором они родились. То, что я рассказывал про французов, образовалось исторически. У нас история еще не подоспела, хотя и торопится.
Придет время, когда русский народ не только будет народом, как он ныне переродился, но ещё народом грамотным, готовым к просвещению. Тогда и искусство сделается потребностью всего русского общества, и представители искусства, получив свою гражданскую оседлость, не маясь от одного горя к другому, от разочарования к ошибке, от самонадеянности к ожесточенности,- установят между собою ту внутреннюю иерархию, на самоуважении основанную, без которой прочная организация какого бы то ни было сословия мыслима быть не может. Тогда и официальная поддержка возникнет естественно, сама собою. Объявится уже близкая свобода театров, без которой ни драматической литературы, ни музыки, ни соревнования между сценическими деятелями, ни обеспечения материальных средств авторов и артистов - не предвидится. И у нас возникнет свой Институт, возродится своя академия словесности с почетными правами; и у нас будет специальный уважаемый знак отличия для выборных по заслугам в областях литературы и творческих искусств, и мы, наконец, дойдем в этом отношении до того, до чего дошли Германия и Франция.
Здесь я должен несколько приостановиться, чтобы оправдаться, по возможности, перед читателем за длинное отступление. Я должен повторить, что я еще не пишу своих мемуаров, а припоминаю кое-что из дней пережитых. Тут для меня, по крайней мере, представляет интерес не часть анекдотическая - так как в важных событиях я никогда не играл никакой резкой личной роли, - но то впечатление, которое мне осталось от пережитого, и тот вывод, который я из него для себя извлек. Я не посвятил себя всецело искусству по двум причинам: во-первых, потому, что не признавал в себе достаточно таланта, во-вторых, потому, что в России столько дела, что человеку, которому трудно писать, не следует, как выразился Пушкин об Одоевском, делаться писателем. И действительно, у нас еще надо месить глину для кирпичей, а я бы стал принуждать себя к постоянным размышлениям о том, выйдет ли замуж Наташа или Людмила за Владимира Вельского. Сердечно сочувствую и душевно завидую тем избранным, которые родятся с потребностью творчества: они не столько живут в ней, сколько она живет в них. Мое призвание в литературе могло быть только дилетантское, а дилетантизм в искусстве равняется бессилию. Меня часто укоряют, что я загубил свою карьеру, что я мог бы сделаться или государственным человеком, или замечательным писателем. Этому я положительно не верю: я знал почти всех наших государственных людей, и участь многих не внушала мне зависти, ни по их влиянию, ни по их способностям. Я знал почти всех наших писателей и артистов, и хотя некоторым завидовал, но не сознавал в себе достаточно силы, чтобы с ними померяться. Я был светским человеком между литераторами и литератором между светскими людьми, и от этого я навлекал на себя не раз негодование обоих лагерей; но теперь, когда я отрывками переживаю прошлое, мне кажется, что, если бы начинать снова, я сделал бы то же самое. Мне кажется, что и в скромной моей доле я был тоже порождением своего времени, что к какой стороне я бы ни примкнул, я ни одною бы не удовлетворился и снова бы начал служить некоторым отдельным вопросам, которые не закрепят за мною громкого имени, но занимают мое время и тешат мое воображение надеждою оставить по себе хоть малую, посильную пользу.
Лично я - враг всякого дилетантизма; по судьбе другой карьеры я не встретил и не мог встретить. Но передо мною вились многие тропинки, я переходил по ним, смотря по обстоятельствам, тогда как Глинка шел по одной широкой дороге истинного гения. Но дорога была негладкая, цель была туманная. Он остановился, изнемог и не дошёл. Ничто не может служить лучшим тому доказательством, как собственные его записки. Для людей, его не знавших, они показывают его в странном свете. Тут не только не видно величавости гения, а скорее проглядывает что-то узкое, одностороннее, недоконченное. Перечень его болезней и принимаемых им лекарств, простое именование городов, через которые лежал его путь, постоянная субъективность, неразборчивость любовных похождений - все это скорее напоминает больного и избалованного ребенка, чем творца нашего музыкального эпоса. Конечно, его привязанность к родителям, родным и друзьям мила и трогательна, его любовь к птицам и детям обнаруживает в его душе родники чистейшие, но затем вся жизнь его обнаруживает скорбь, свойство болезненности и неудовлетворения. С одной стороны, он подавлен судьбою,- с другой, по реакции естественной, он слишком верует в свою непогрешимость. "Нигде и ни в чем нет отрады,- пишет он в своих письмах.- Домашние обстоятельства плохи. В действительной жизни в моем отечестве я встречал одни горести и разочарования"58. Между тем он посвящает свою первую оперу государю, который не любил музыки59: тут явно, что Глинка понимал всю царственность своего подношения. " [Соллогуб 1988, с. 599]
(А далее Соллогуб размышляет о судьбе гения, превращённого в камер-юнкера или коллежского асессора: оба, и Пушкин, и Глинка, в условиях сословного государства, не находили себе места. Инстинктивно все мы сравнивали себя с положением творца в ЕСКО — но и по сей день не понимаем, что эти сравниваем-то себя с примерно серединой XIX века, то есть расцветом — и при этом расцветом случайным, неожиданным для тех, кто организовывал Ренессанс и Реформацию — ЕСКО. После расцвета пошёл бурный закат — и Ницше не более чем провозвестник его. Рассуждения Соллогуба о судьбе Глинки — это рассуждения в каком-то смысле Манилова: "А хорошо бы…" Правда, сам Соллогуб дал достаточно непредвзятое описание русского характера: "Тут следует заявить об одном печальном свойстве нашего народного характера - о недоброжелательности друг к другу. В течение долгой моей карьеры я имел неоднократно случай удостоверяться, как странно и неуместно выражается иногда это свойство." [Соллогуб 1988, с. 602] (И далее он приводит пример: его пьеса была поставлена в Париже — и премьера была совершенно провальная. Однако на следующий день директор театра поздравил его с грандиозным успехом; причина — вчера, на премьере, публика была русская, а сегодня — уже французы!) При этом французская пресса пьесу и постановку хвалили, а петербургская — изругала. И он объясняет это просто "завистливой справедливостью: "Мне кажется, что причина явления отыскивается в долгом историческом рабстве, в желании и в свою очередь кого-нибудь притеснить." [Соллогуб 1988, с. 603]
При этом здесь же Соллогуб находит, что уже тогда русские посольства были абсолютно равнодушны к судьбе соотечественников за рубежом — в то время как посольства других государств "неусыпно радели о своих соотечественниках. … Я их объясняю тем, что между русскими, по недостатку цивилизации, нет ещё внутренней общественной связи. На чужбине все национальности держатся группами; одна русская блуждает врассыпную."
Далее рассказывает случай из собственной жизни: проигрался в Бадене, масса знакомых — и никто не одолжил пары сотен до прихода перевода, выручил его Антон Рубинштейн и близкая родственница: он сам о помощи её не просил, но она узнала из сплетен… [Соллогуб 1988, с. 607]
Его вывод — опять об "интеллигенции": "На каждом шагу встречаются люди, живущие на чужой счет, пройдохи, мошенники. С такими господами нельзя не держать себя осторожно; но от этого заморозить себе душу вряд ли извинительно. Служение одним чувственным инстинктам, одному сухому эгоизму даже нерасчетливо, потому что нет человека, который в известный момент не нуждался бы в других. Самая лень и ожесточенность чувственного безразборчивого эгоизма - не что иное, как бесхарактерность. Бесхарактерностью отличается собственно не русский народ, а полупросвещенная его часть, которая в этом отношении перещеголяет все народы в мире." [Соллогуб 1988, с. 607]
И он даёт своё объяснение — к которому я сам пришёл спустя 150 лет:
"Наш простой народ бесхарактерен только в пьянстве, где - первое его знакомство с просвещением. Кому из пожилых моих читателей не случалось видеть пьяниц, пьющих запоем? Что может быть печальнее и отвратительнее? Едва блеснет в них луч рассудка - они рвут на себе волосы, плачут навзрыд, проклинают свою слабость, клянутся страшными клятвами, что вчера они напились в последний раз. Но завтра будет опять последний раз, а послезавтра опять последний раз - и так до ранней гробовой доски. Сколько миллионов людей погибло и гибнет еще у нас таким образом тягостью и наказанием для государства! В высших классах начало запойное существует у нас не для одного вина, но и для других видов опьянения. У одного - запой желчи, у другого - самообольщения, у третьего - любостяжания, у четвертого - разврата, у пятого - чванства, у шестого - праздности и пустячной жизни, у седьмого - властолюбия, у восьмого - нигилизма, у девятого - формализма, и так далее. В русской натуре мнимо образованной, - а что еще хуже - полуобразованной,- ничто не уравновешивается, всё переливается из одной крайности в другую.
Вывод наблюдений всей моей жизни сводится к тому, что главное для нас бедствие, главное наше бессилие, главное наше страшилище заключаются в полуобразовании, а спасение наше - в образовании настоящем. Образованием врачуется запой, полуобразованием он только разжигается. Об этом можно исписать целую книгу, даже несколько книг. Но, в пределах настоящей вступительной статьи, я хотел поговорить только о судьбах русского искусства по поводу едва ли не самого гениального его представителя. И тут часть общественного мнения доходит ныне до некоторого запоя. Для иных, кроме Глинки, нет музыки на свете. Он - альфа и омега, закон и пророк. До него ничего не было, после него ничего не будет. В концерте можно исполнять только "Камаринскую", "Арагонскую хоту", трио из "Жизни за царя" и арию Ратмира. Даже музыка демагогическая признает Глинку безусловным кумиром, хотя идет вразрез против его консервативных и аристократических убеждений, ставивших выше всего мелодию и предоставлявших в опере первое место певцам и певицам. Если в нашем полупросвещенном быту можно проследить начала взаимного недоброжелательства, эгоизма, запоя и бесхарактерности, то и в наших восторгах тоже нередко отражается полуобразованность. Пойдите в театр, и если на сцене выкажется какой-нибудь грубый намек или непристойная сцена - будьте уверены, что вы услышите не шиканье оскорбленного чувства приличия, а хохот и громкие рукоплескания." [Соллогуб 1988, с. 609]
И продолжает:
"В нашей общественной жизни мы подчиняемся двум властям: власти административно-наружной, нами правящей, и власти духовно-внутренней, которою мы сами собою правим. Согласование этих двух властей и образует нашу жизненную задачу. Главная точка их соприкосновения отыскивается, естественно, в воспитании. Должна ли наша грамотность создавать полуграмотных почитателей Бюхнера и Прудона или давать честный кусок хлеба неимущему, честный образ мыслей человеку со средствами? Не поступает ли на очередь вопрос о людях, которые, не находясь в официальных категориях, тем не менее могут принести большую пользу или большой вред государству. Не знаю, ошибаюсь ли я, но мне кажется, что если истребится всё то, что способствует полупросвещению, то и день просвещения скорее приблизится. Я бы желал для земледельцев воспитание земледельческое, для ремесленников - ремесленное, для гимназий - классическое, для университетов - всеобъемлющее. Я бы желал поощрения начал нравственных и эстетических. Я бы принял энергические меры, во что бы ни стало, для искоренения пьянства, я бы не допустил общественных удовольствий, похожих на открытые дома терпимости, я бы дал права гражданства сословию художников и писателей, чтобы осмыслить их существование, не ввергать их в злобу или отчаяние, а убедить в той простой истине, что тот, кто честно служит государству, в то же время служит государю. Относительно начал административных я мог бы сказать многое, но это выскажется само собою, при дальнейших рассказах из пережитого времени. Но если наружная обстановка много влияет на жизненные условия, то внутренняя сила воли, то наше действие на нас самих - влияют несравненно еще более. Покаемся чистосердечно, любезные мои читатели, обратимся к нашим воспоминаниям, вникнем в глубину души нашей и спросим себя: не пора ли нам истреблять в себе присущую каждому из нас татарщину, не пора ли отказаться от привычки сваливать всякую вину на других и во всем извинять самих себя, тогда как если бы мы сами исправились, то и другие не были бы виноваты? Мы - класс мнимо цивилизованный, далеко отошли от нашего простонародья и ни к чему еще не пришли. Нет народа, подобного народу русскому. Даже в его осадках, с которыми я тоже близко познакомился в тюрьмах, я находил с изумлением признаки величия, простоты, прямодушия, терпения, справедливости, проницательности, нежности чувств, твердости воли, смирения, коллективной честности, словом - такие добродетели, которые для других народов были бы в диковинку. И мы - руководители, наставники, старшие братья,- мы, запутавшиеся в тине полупросвещения,- мы не отыскиваем дороги ни для нас, ни для тех, которые идут за нами. Самообразование - вот, как кажется, наша строгая задача. Самоуважение - вот наша цель."
Ещё одна черта русской психологии — наплевательское отношение ко времени, неаккуратность (то есть не деловитость): "Об аккуратности и говорить нечего. Не знающие меры не могут сродниться с аккуратностью. Кому не случалось иметь назначенное свидание с представителями различных национальностей. Вот что я всегда замечал. Немец придет за полчаса, англичанин придет минута в минуту, француз не придет, но пришлет извинительное письмо, русский не придет и не извинится - и не потому, что встретилось какое-нибудь препятствие, а так себе, просто потому, что его снесло ветром куда-нибудь в другую сторону, где ему не было никакого дела. Если он возьмет у вас почитать книгу - будьте уверены, что он ее никогда не возвратит. И с деньгами бывает та же бесцеремонность. Слово "успею" многих погубило. Многие из одной только лени потеряли состояние, счастье, честь и жизнь. Вот почему богемская жизнь, то есть жизнь без меры, так опасна для национальности, уже врожденно меры не понимающей." [Соллогуб 1988, с. 614]
Ещё психология русского — нет расчёта: "Может быть, в совершенном нашем незнании расчета есть какая-то славянская удаль, какое-то отдаленное условие нашей широкой, размашистой природы. Как бы то ни было, петербургская роскошь дошла до пошлой глупости, и никто не смеет подать пример рассудка и ума. Ростовщики обогащаются, мода владычествует, изменяя каждый день свои прихоти, и все покоряются безусловно моде и приносят ей в дань все до последней копейки Зато нет ни у кого семейных воспоминаний. Ни в одном доме не найдешь ты дедовских следов: ни фамильной утвари, ни признаков уважения к предкам — все поглощается на удовлетворение модных затей… И поверишь ли, прекрасный Петербург кажется городом, взятым напрокат." [Соллогуб 2011, с. 395]
Жалуясь, что все вокруг него только злословили о нём, один из героев Тарантаса говорит: "В низшем слое московского населения господствует прямодушие; в высшем — блестят несколько даровитых благонамеренных умов, одушевленных любовью к полезным занятиям, стремлением к прекрасной народной цели." [Соллогуб 2011, с. 398]
Различия между Москвой и Петербургом: "Пороки петербургские происходят от напряженной деятельности, от желания выказаться, от тщеславия и честолюбия. Пороки московские происходят от отсутствия деятельности, от недостатка живой цели в жизни, от скуки и тяжелой барской лени. Впрочем, это относится, разумеется, не ко всему обществу, а к малой части того общества, которое наиболее заставляет говорить о себе." [Соллогуб 2011, с. 400]
ПО, законы и гражданское общество: что именно нам следовало бы заимствовать из ЕСКО: "Во-первых, чувство гражданственности, гражданской обязанности, которого у нас нет. Мы привыкли сваливать все на правительство, забывая, что ему нужны орудия. Мы служим не по убеждению, не по долгу, а для выгод тщеславия; и хотя мы любим свою родину, но любим её как-то молодо, нерассудительно горячо. Общее благо у нас — пустое имя, которого мы даже не понимаем. С чувством гражданственности получим мы стремление к вещественному и умственному усовершенствованию, поймем всю святость прочного воспитания, всю высокую пользу наук и художеств, все, что улучшает и облагораживает человека. Германия передаст нам свою семейственность, Франция — свою пытливость в науках, Англия — свои торговые познания и чувство государственных обязанностей, Италия даже перенесет на морозную нашу почву свои божественные искусства." [Соллогуб 2011, с. 421]
А вот чего следует остерегаться из ЕСКО: "Того, что губит Европу… Духа самонадеянности, кичливости и гордости; духа сомнения и неверия, с которыми движение вперед делается невозможным; духа раздора и беспокойства, который всё уничтожает. Остережемся надменности германской, английского эгоизма, французского разврата и итальянской лени — и перед нами откроется такой путь, какой никакому народу не открывался. Взгляните на неизмеримое пространство нашей земли, на единство её образования, на гигантское её построение — и на душе вашей станет страшно… И потом взгляните на народ, населяющий эту землю, народ правдивый, веселый, умный, духа непоколебимого и силы исполинской, — и вам станет легко на душе, и вы порадуетесь судьбе великой земли. Но лучший залог, лучший признак настоящего и будущего величия России — это могучее её смирение. У нас нет, как за границей, ни пустых возгласов, ни вздорного шума из пустяков, потому что мы друг перед другом не должны надуваться, чтоб придать себе важности. В нас спокойствие и сознание силы, оттого мы не только иногда кажемся равнодушными к родине, но как будто совестимся перед Европой и хотим извиниться в своих преимуществах. Только не трогайте святой Руси, не то все встанем без крика и незваных гостей одними шапками закидаем." [Соллогуб 2011, с. 421]
Наши деды были неграмотны, но хранили верность России; при этом верность эта была скорее интуитивная, нутряная: "Почти все наши деды учились на медные деньги, воспитывались как-нибудь, наудачу, то есть не воспитывались вовсе, а росли себе по воле божьей. И деды наши были, точно, люди неграмотные; редкий умел правильно подписывать свое имя, и, несмотря на то, они все почти были люди с твердыми правилами, с сильною волею и крепко хранили, не по логическому убеждению, а по какому-то странному внушению, любовь ко всем нашим отечественным постановлениям. Теперь старинная грубость исчезает, заменяясь духом колебания и сомнения. Жалкий успех, но, может быть, необходимый, чтоб надежнее и вернее дойти до истины. … влияние на нас Франции в то время было весьма понятно. Наполеон потрясал с боку на бок всю Европу, и Россия, охотница до всякой удали, дивилась со стороны чудному человеку. Но когда дело дошло до нас, все наши французы заговорили по-русски. Чувство народности, чувство народной любви к государю и отечеству — это основное неискореняемое начало русской жизни, вдруг сбросило личину, и целый край поднялся без шума грозным исполином. Врага встретили с мечом и огнем, и пожар Москвы осветил настоящим светом русские чувства. В эту памятную годину всякий жертвовал чем мог: кто жизнью, кто детьми, кто достоянием, и никому не пришло в голову просить себе за то возмездия или награды, чему мы видели потом столько примеров в прославленной нами Франции." [Соллогуб 2011, с. 447 и 456]
И видимо, причина и была в тех французах: "Всем известно, что французы долго мстили нам за свою неудачу, оставив за собой несметное количество фельдфебелей, фельдшеров, сапожников, которые под предлогом воспитания испортили на Руси едва ли не целое поколение. Эту жалкую саранчу не следует, однако, сравнивать с эмигрантами, которые всё-таки были получше, пообразованнее, хотя немногим, и они отплатили за русское гостеприимство, укрывавшее их от ужасов французского возмущения." [Соллогуб 2011, с. 457] Одного такого умника он описывает: "Он был даже не совершенно без образования, но, разумеется, как француз, с образованием односторонним и хвастливым. Он ничего не понимал и не признавал вне Франции, и все открытия, все усовершенствования, все успехи приписывал своевольно французам. Такой образ мыслей, разумеется, может быть весьма похвален для природного парижанина, но, кажется, вовсе не нужен для казанского уроженца. Кроме того, monsieur Leprince был весьма любезен с дамами, писал довольно гладкие стишки с остротой или с мадригалом при конце, говорил про все то, чего не знал, весьма бегло и красиво, любил иногда с важностью замолвить глубокомысленное словечко о судьбах человечества и с гордой откровенностью беспрестанно твердил, что он сделался наставником только по необходимости, но что он вовсе не рожден для подобного назначения." [Соллогуб 2011, с. 457] И всё это так похоже на современного североамериканца; недавний опрос по поводу Украины привёл к конфузу: только 16% смогли её найти на карте. (Я-то думаю, что этот процент на деле ниже; всё зависит от того, как задавать вопрос; если человеку сразу же показать карту Европы, то шансов быстро — пусть и случайно — увидеть название больший страны, занимающей на нормальной карте минимум 10% от территории Европы, много больше, чем для Андорры или Сан-Марино. Правильно было бы так: вот глобус; мы его закрутили как попало, после его остановки просим найти Украину. Скорее всего, тогда доля ответивших круто упадёт.)
Такие учителя человечества существуют тогда и только тогда, когда мы сами, добровольно, безо всяких на то оснований, признаём за ними право нас учить. Русская элита единственное что выучила у Петра — то, что Запад нас умнее и сильнее, и талантливее, и образованнее. Всё остальное, то что делало Петра Петром, было как бы незаметно: энергия, ум, решительность, умение "держать цель," умение работать с подчинёнными, широкий взгляд на мир. Поэтому в глазах каждой мадам Простаковой ничего, кроме поклонению Запады и не осталось:
"На тринадцатом году Иван Васильевич знал, что Расин первый поэт в мире, а Вольтер такая тьма мудрости, что страшно подумать. Он знал, что был век, озаривший целый свет своей могучей литературой, — век Людовика XIV; что после этого века был ещё другой век, век Людовика XV, немного послабее, но тоже изумительный. Иван Васильевич знал наперечёт всех писак того времени. Надо отдать ему справедливость, что он нередко зевал, читая образцовые сочинения, но monsieur Leprince, подсмеиваясь над тупой его природой, предсказывал ему, что впоследствии он постигнет, может быть, недоступные ему красоты. Сверх того, Иван Васильевич обучался латинскому языку по ломондовской грамматике, хотя довольно неудачно; кое-что запомнил из Всеобщей истории аббата Милота, пел беранжеровские песни и описывал довольно правильно на французском языке восхождение солнца. О неизвестных же ему предметах monsieur Leprince относился весьма легко, давая чувствовать, что он их хотя и изучал донельзя, но что они не заслуживают никакого внимания.
Иван Васильевич был мальчик совершенно славянской природы, то есть ленивый, но бойкий. Воображением и сметливостью часто заменялись у него добросовестный труд и утомительное внимание. Ученик скоро истощил ученый запас учителя, но учитель, как истый француз, никак не понимал своего невежества и продолжал себе преподавать и растягивать всякий вздор под прикрытием громких названий. Поймите сперва хорошенько Корнелия Непота, — говорил он своему питомцу, — а там мы примемся за Горация. Но, к сожалению, monsieur Leprince сам Горация-то не понимал, отчего и Иван Васильевич остался на всю жизнь свою при Корнелии Непоте. Года два или три сидел Иван Васильевич на французском синтаксисе, изучая и забывая поочередно все своевольные обороты болтливого языка. Потом несколько лет сряду изучал он французскую риторику, составлял разные фигуры, тропы, амплификации, витиеватые обороты речей и т. п. Узнайте сперва хорошенько риторику, — говорил monsieur Leprince, — а там дойдем мы и до философии. Но риторика длилась до бесконечности, и по известным причинам до философии никогда не дошли. Еще забыл я сказать, что Иван Васильевич знал наизусть генеалогию всех французских королей, названия многих африканских и американских мысов и городов, терялся в дробях, как в омуте, и довольно нахально начал судить, по примеру наставника, о многих книгах и о всех науках, руководствуясь одними заглавиями. Мать Ивана Васильевича, урожденная княжна, утопала в восторге, когда сынок приносил ей в праздничный день поздравительное сочинение, наполненное риторическими тропами или, чего доброго, иногда и вколоченное в стихосложный размер. Monsieur Leprince, в уважение таких заслуг, был почти хозяином дома, приказывал и распоряжался во все стороны, держал своих лошадей, частехонько для рассеяния ходил на прядильную фабрику, толстел, наживался и, наконец, начал торговать из-под руки хлебом, после чего, набив карманы, раскланялся он на все четыре стороны и уехал во Францию рассказывать про нас всякие небылицы и печатать брошюры о тайнах русской политики и о личных достоинствах наших государственных людей." [Соллогуб 2011, с. 459]
Результат — вырос недоросль: "Ивану Васильевичу все рассказали и объяснили, кроме того, что у него было под носом. Он видел господский дом довольно гадкий, избы довольно гнилые, церковь довольно ветхую, но никто не объяснил ему, как начались, как образовались, как дошли до настоящего положения этот дом, эти избы, эта церковь. Русская история, русская жизнь, русский закон остались для него каким-то варварским баснословием, и, благодаря бестолковому направлению, русский ребенок вырос французиком в степной деревне, в самом русском захолустье. … И теперь, когда в высшем нашем кругу среди стольких русских имен встречаешь так мало русских сердец и в особенности так мало русских умов, невольно подумаешь о полученном воспитании, и вместо гнева в душе рождается сожаление. (его послали в пансион) … К несчастию, между учащимися невежество и нерадение не почитаются за порок; напротив того, в них полагается что-то молодеческое, доказывающее самостоятельность возмужалого возраста. (провалившись на экзамене, он едет в Германию) … В Германии объяснилась ему тайна воспитания. Он видел, как здесь каждый человек, от мужика до принца, вращается в своем кругу терпеливо и систематически, не заносясь слишком высоко, не падая слишком низко. Он видел, как каждый человек выбирает себе в жизни дорогу и идет себе постоянно по этой дороге, не заглядываясь на стороны, не теряя ни раза из вида своей цели. О, как проклял он тогда своего француза-наставника, который именно цели-то и не дал его бытию!" [Соллогуб 2011, с. 460 и 464]
Но даже этот необразованный Митрофанушка смог за границей понять, что нас, русских не понимают, а, следовательно, боятся — боятся до колик, до дрожи, до совершенно ребяческого придумывания собственных утешительных сказок, где русский просто дикарь и дурак: "Между тем Иван Васильевич замечал, что, куда бы он ни показывался, в какую землю бы он ни приезжал, — на него смотрят с каким-то недоброжелательным завистливым вниманием. Сперва приписывал он это личным своим достоинствам, но потом догадался, что Россия занимает невольно все умы и что на него так странно смотрят единственно потому, что он русский. Иногда за табльдотом делали ему самые ребяческие вопросы: скоро ли Россия завладеет всем светом? правда ли, что в будущем году Цареград назначен русской столицей? Все газеты, которые попадались ему в руки, были наполнены соображениями о русской политике. В Германии панславизм занимал все умы. Каждый день выходили из печати глупейшие насчет России брошюры и книги, написанные с какой-то лакейской досадой и ровно ничего не доказывающие, кроме бездарности писателей и опасений Европы. Мало-помалу заграничная жизнь заставила Ивана Васильевича невольно задуматься о своей родине. Думая о ней, он начал ею гордиться, а потом начал ее и любить." [Соллогуб 2011, с. 466] Короче, его судьба — судьба Герцена и прочих западников, выученных плясать по-ихнему, а есть щи по-нашему.
Соллогуб описывает человека из такой нашей полуобразованной элиты так:
"Не приученный к упорному труду, он встретит невозможность там, где только затруднение, — и благие его начинания останутся вечно без конца.
И не он один; много у нас молодых людей, которые страдают одинаковой с ним болезнию. Много у нас молодых людей, которые изнывают под бременем своей немощи и чувствуют, что жизнь их навек испорчена от порочного, недостаточного, половинного образования. Правда, они тешат свое самолюбие личиной поддельного разочарования, жизненной усталости, обманутых надежд. А в самом деле они только ничтожны, и ничтожны вполовину, а потому не могут не чувствовать своего ничтожества. И в них таится, может быть, наклонность к деятельности, любовь к прекрасному и к истине, но они не приобрели силы осуществить внутреннего своего стремления. В них есть чувство, но нет воли. В них страсть кипит, но рассудок вечно недоволен. Многие для рассеяния погружаются в омут бурных наслаждений, иные делаются распутными, другие картежниками, третьи жертвуют жизнью своею для вздора, некоторые воображают, что они вольнодумцы, либералы, потихоньку бранят правительство, проклинают обстоятельства, будто бы им враждебные. Но и с другими обстоятельствами они были бы те же, потому что зло в самом основании, в самом корне их тщедушного прозябания. Жалкое поколение! Бедная молодость! Плод, испорченный еще во цвете! Но так суждено свыше. В каждом усовершенствовании, в каждом преобразовании должны быть жертвы. А они попали среди борьбы прошедшего с настоящим, мрака со светом. Они исчезнут без следа, без сожаления о непонятых страданиях, но их страдания должны служить примером. На мрачном небосклоне старинного невежества давно мелькнула уже лучезарная точка, и с каждым днем растет она и все становится ярче и ярче. Будут люди, которые обожгутся незнакомым им огнем; другие, ослепленные сиянием, останутся в недоумении между светом и тьмой или попадут на ошибочную дорогу. Но светильник все приближается ближе и ближе, и настанет день, когда мрак исчезнет совершенно и вся земля озарится благодетельным светом…" [Соллогуб 2011, с. 467]
В своей, может быть чуть ли не первой социальной утопии на Руси, Соллогуб в Тарантасе даёт и своё объяснение: "На Востоке всякое убеждение свято. На Западе нет более убеждений. На Востоке господствует чувство, на Западе владычествует мысль. А России суждено слить в себе мысль и чувство при лучах просвещения, как сливаются на небе цветы радуги от яркого блеска солнца. Восток презирает суетность житейских треволнений; Запад погибает в беспрерывном их столкновении. И тут можно найти середину. Можно слить желание усовершенствования с мирным, высоким спокойствием, с непоколебимыми основными правилами. Мы многим обязаны Востоку: он передал нам чувство глубокого верования в судьбы провидения, прекрасный навык гостеприимства и в особенности патриархальность нашего народного быта. Но — увы! — он передал нам также свою лень, свое отвращение к успехам человечества, непростительное нерадение к возложенным на нас обязанностям и, что хуже всего, дух какой-то странной, тонкой хитрости, который, как народная стихия, проявляется у нас во всех сословиях без исключения. При благодетельном направлении эта хитрость может сделаться качеством и даже добродетелью, но при отсутствии духовного образования она доводит до самых жалких последствий; она доводит к неискренности взаимных отношений, к неуважению чужой собственности, к постоянному тайному стремлению ослушиваться законов, не исполнять приказаний и, наконец, даже к самому безнравственному плутовству. Востоку мы обязаны, что столько мужиков и мастеровых обманывают нас на работе, столько купцов обвешивают и обмеривают в лавках и столько дворян губят имя честного человека на службе. Страшно вымолвить, — а привычка в нас сделала то, что мы остаемся равнодушными, будучи свидетелями самых противозаконных хищений, так что даже первобытные понятия наши с годами изменяются и кража не кажется нам воровством, обман не кажется нам ложью, а какой-то предосудительною необходимостью. Впрочем, слава богу, тут Западом побежден у нас Восток, и мстительный факел осветил пучину козней и позора. Долго еще будут у нас проявляться следы сокрушительного начала, но они давно уже переходят в осадки всех сословий, в низшие слои людей разных именований, потому что каждое сословие имеет свою чернь. Как ни говори, как ни кричи, что ни печатай, Россия быстрым полетом стремится по стезе величия и славы — к недосягаемой на земле цели совершенства. И более всех других народов Россия приблизится к ней, ибо никогда не забудет, что одного вещественного благосостояния точно так же недостаточно для жизни государства, как недостаточно для жизни частного человека. Широкой, могучей пятой задавит она мелкие гадины, кровожадные ехидны, которые хотят ползком пробраться до ее сердца, и весело отпрянет она, полная любви и силы, к чистому, беспредельному русскому небу…" [Соллогуб 2011, с. 485]
Поэтому в беседе с Князем герой повести слышит нечто совершенно ему неизвестное; Князь уже не стесняется признаться, что западные "учителя" на деле учили нас, варваров, тому, чего и сами не понимали, что их слова о просвещении и свободе не более чем слова: "Помилуйте… да это слова… Мы не дети, слава богу… Нам неприлично заниматься шарадами и принимать названия за дела. Я вижу, впрочем, с удовольствием, что вы читаете историю — занятие похвальное. Вы говорите о том времени, когда непрошеные крикуны вопили о судьбе народов не столько для народного блага, как для того, чтоб их голос был слышен. Но ведь народы давно сами догадались, что весь этот шум прикрывал только мелкие расчеты, частные страсти, личное самолюбие или горячность молодости. Поверьте, если благо общее и подвинулось, так это от собственной силы, а не от громких возгласов. Для всякого человеческого дела страсть не только пагубна, но даже смертельна. Вам это докажет история, а история не что иное, как поучение прошедшего настоящему для будущего. Мы начали после всех, и потому мы не впали в прежние ребяческие заблуждения. Мы шли спокойно вперед, с верою, с покорностью и надеждой. Мы не шумели, не проливали крови, мы искали не укрывательства от законной власти, а открытой священной цели, и мы дошли до нее и указали ее целому миру… Терпением разгадали мы загадку простую, но до того еще никем не разгаданную. Мы объяснили целому свету, что свобода и просвещение одно и то же целое, неделимое и что это целое не что иное, как точное исполнение каждым человеком возложенной на него обязанности." [Соллогуб 2011, с. 499]
2014_04_16 WiFi блажит месяц; беседую с просвещённым местным технарём ВТОРОГО уровня, который от моей компании ОБЯЗАН помогать в случае проблем: "А мы, сэр, не поддерживаем и не гарантируем качество WiFi!" — "Почему?"
Возмущён: "Мы же беспроводного интернета не видим — как же мы можем гарантировать его качество!!!" — "А проводной ты видишь?" — "А как же, все же видят кабель и что с ним происходит!"
Ещё 25 лет тому назад я уже в беседе с коллегами задавал всем вопрос: "О какой всеобщей, поголовной компьютеризации может идти речь, если число часов в школе на науку (science, то есть на физику, которая бы и объяснила бы "знатоку," что такое колебания и волны и пр., на химию и пр.) и на математику падает с каждым днём?
2014_05_22 Ура! Связь есть!
На какое-то время мучения закончились. Но никто себе не представит, как. Больше всего это напоминало старый анекдот: "Сколько нужно милиционеров, чтобы вкрутить лампочку?" Ответ: "5!!!" — "?!" — "Очень просто. Один становится с лампочкой в руках на стол, а четыре других берут стол за ножки и вертят его."
У меня было абсолютно то же самое: за месяц были десятки звонков в компанию, три раза НА ДОМ (!) приезжали технари (два первых вообще по-английски не говорили!)
Модем был заменён десяток раз, перепробованы разные модели (в том числе те, которых якобы не существуют вовсе!) — всё впустую.
Мне советовали купить новый компьютер (хорошо, что не машину или дом).
Наконец, последний технарь просто подсоединил свой собственный навороченный лэптоп — и убедился, что скорости вовсе нет и у него. Наконец и до него дошло, что дело не во мне и не в моём компьютере, а в чём-то другом. И он просто приволок много разных модемов из своей машины — и с третьего раза скорость подскочила в 10 раз!!!
Он объяснил, что эти все модемы просто починенные, то есть не новые — а потому ничего и не работает.
Угадайте, сколько нужно сотрудников моего провайдера, чтобы починить одно соединение?!
2014_06_02 Ура! Просмотрели все 24 серии фильма по книгам Фоменко и Носовского (ФН). Спасибо авторам и Интернету! Наконец-то создатели фильма убедительно объяснили в чём же разница между Ортодоксальной Хронологией Истории (ОХИ) и Аномальной Хронологией Истории (АХИ).
Методология АХИ и неожиданный набор инструментов её позволили заодно решить загадку самой теории. Дело в том, что я когда-то встречал на мехмате молодого аспиранта, Толю Фоменко; это был симпатичный молодой человек с умными глазами и энергичными движениями, любитель музыки и живописи. Его иллюстрации к книге Димы Фукса были просто шедевром. А здесь в фильме показали какого-то весьма пожилого джентльмена с усталым печальным взглядом. Ясно, что это типичный дублет-фантом. АХИ даёт же и способ как определить по дублету оригинал.
Начнём с того, что слова читать можно как слева направо (ФН, Фоменко-Носовский), так и справа налево (НФ, Носовский-Фоменко). Но что такое НФ? Это же всеми любимая Научная Фантастика! Значит, оригиналы дублетов нужно искать там.
Давайте — как герои любимого новогоднего сериала — будем рассуждать логически. Итого: нужны авторы научно-фантастических романов, пишущие вдвоём; оба мужеска полу, хотя бы один имеющий хоть какое-то отношение если не к математике, то к астрономии. При этом один должен быть старше другого.
Voila! Братья Стругацкие!
Это они замаскировались под авторов АХИ и выдали серию занимательнейших романов о мировой и русской истории.
Но это ещё не всё. Метод МС говорит о том, что эти якобы оригиналы — тоже фантомы-дублеты кого-то другого. Опять ищем двух писателей, пишущих вдвоём — и находим: Ильф и Петров.
Проверяем себя — браво! Именно они открыли бессмертный, применимый во все времена принцип МС: Паниковский, Михаэль Самуэльевич (отсюда МС) в Золотом телёнке убеждает Шуру Балаганова, что чугунные гири жулика Корейко — на деле золотые: "Шура, ну подумайте, ну какими же они ещё могут быть?!"
И действительно, именно этот принцип МС позволяет получить все нужные результаты: есть какая-то картина на потолке в каком-то зале, эМэСаем её: "Чем же ещё она может быть, как не гороскопом?!"
Потом эМэСаем ещё раз: "Что же это может быть, как не гороскоп астронома Птолемея, автора Альмагеста?!"
И всё сразу доказывается само собой.
2014_07_12 Спрашиваю в супермаркете свежие вишни; продавец примерно 20 лет, недоумение: "А разве свежие бывают? У нас они только в сиропе…"
Понятно, скоро сыр будем добывать из чизбургеров (то есть СЫРбургеров), а пластик из iPad'ов?!
2014_07_31 Раннее утро, группа детей (примерно 3-4 года) лихо распевают песню: "I do not care what you say!" (В вольном русском переводе примерно: "Чихать мне с высокой колокольни на то, что ты обо мне думаешь!")
Что же они потом удивляются, что подросший ребёнок берёт блоупайп и вырезает полкласса…
2014_08_02 В том же супермаркете спрашиваю манго. Один уверяет, что 20 лет здесь работает и никогда не слышал такого слова; другой сказал, что сейчас посмотрит в Гугле, и действительно посмотрел и действительно не нашёл.
Раньше были у нас оглоеды, теперь — гуглоеды, продукт генетической модификации.
У меня родился экспромт-анекдот: два гуглоеда поженились, брачная ночь, оба лезут в гугел узнать, а что делать дальше…
2014_11_17 В пару к анекдоту о слепцах Аверченко нашёл ещё один, вроде бы даже из жизни:
"Император Петр Великий очень заботился о благоустройстве городов, сам наблюдал за возведением различных построек, разбивкой садов и т. д. В Ревеле он приказал насадить прекрасный сад с прудами, фонтанами и назвал его в честь императрицы Екатерины Екатериненталем.
Приехав спустя несколько лет в Ревель, государь отправился посмотреть сад и нашел его пустым.
— Почему никого нет? — обратился он к стоявшему у садовых ворот часовому.
— Приказано никого не пускать,— ответил солдат.
— Кто приказал?
— Начальство.
Император очень рассердился и, потребовав представителя городской администрации, сказал ему:
— Я не для себя развел этот сад, а для жителей. От сего числа пускать в него всех!"
(ист.: "Исторические анекдоты из жизни русских государей, государственных и
общественных деятелей" ч. 1., М., Пресса, 1998, с. 17-18)
Похоже, анекдоты сами по себе не рождаются…
